Правовые фикции: понятие, признаки и виды
Технико-правовые категории, используемые в юридической технике
К юридической технике принято относить такие категории, как правовые аксиомы, правовые (юридические) презумпции, юридические фикции, преюдиции.
Правовые аксиомы — это положения, принимаемые в юридической науке и практике без доказательств, в силу их очевидности, убедительности и истинности, например «закон обратной силы не имеет», «субъективному праву всегда соответствует юридическая обязанность», «никто не может быть судьей в своем деле» и др.
Юридическая презумпция представляет собой предположение о наличии или отсутствии определенных фактов, основанное на связи между предполагаемыми и наличными фактами и подтвержденное предшествующим опытом.
Презумпция всегда носит предположительный характер. Это предположение недостоверное, но вероятное. Наиболее распространены презумпция невиновности, презумпция знания закона, презумпция истинности нормативного акта, пока он не отменен, и др.
Юридические фикции — это положения, изначально лишенные истинности, однако признаваемые законодательством в качестве существующих и ставшие в силу такого признания общеобязательными.
Фикции широко применяются в гражданском законодательстве, например признание днем смерти гражданина, в судебном порядке объявленного умершим, дня вступления в законную силу соответствующего решения суда (п. 3 ст. 45 ГК РФ). Юридические фикции как прием юридической техники представляют собой конструирование условной реальности, которая охраняется законом, закреплена в нормативном правовом акте и является обязательным предписанием. Юридические фикции позволяют внести определенность в правовые отношения, так как с этими фактами связываются возникновение и прекращение правоотношений.
Преюдиции (дословный перевод с латыни — отношение к предыдущему судебному решению) представляют собой обязательность для всех судов, рассматривающих дело, принять без проверки и доказательств факты, ранее установленные вступившим в законную силу решением или приговором суда.
Например, осуждение лица за хищение имущества может служить основанием для судебного решения по гражданскому иску о возмещении ущерба, причиненного данным хищением. При этом факт хищения данным лицом не подлежит в данном гражданском деле оспариванию.
При вступлении в законную силу решения стороны данного процесса и другие лица, участвовавшие в процессе, не могут вновь заявить в суде те же исковые требования и на том же основании. Но данный принцип действует только в отношении участвовавших в процессе сторон. Если же третьи лица имеют самостоятельные требования и по уважительным причинам не вступили в процесс, то в отношении этих лиц предыдущий судебный процесс не имеет преюдициального значения. Иначе говоря, третьи лица могут оспаривать факты, установленные предыдущим решением суда, в заседании которого они не участвовали. Но преюдициальность может отпасть вообще при пересмотре вступившего в законную силу решения по вновь открывшимся обстоятельствам.
Таким образом, норма права не тождественна статье закона. Норма права — это логически завершенное правило поведения, а статья закона — это форма его изложения. В статье закона, как видно, может содержаться часть нормы или даже часть ее элемента. Норма права поэтому может излагаться в ряде статей одного или даже нескольких нормативно-правовых актов. Данное обстоятельство необходимо иметь всем, кто пользуется правовыми нормами или применяет их в юридической практике.
Фикция в переводе с латыни — выдумка, вымысел, нечто реально не существующее. В юриспруденции — это особый прием, который заключается в том, что действительность подводится под некую формулу, ей не соответствующую или даже вообще ничего общего с ней не имеющую, чтобы затем из этой формулы сделать определенные выводы. Это необходимо для некоторых практических нужд, поэтому фикции закрепляются в праве. Фикция противостоит истине, но принимается за истину. Фикция никому не вредит. Напротив, она полезна.
Чаще всего под фикцией в праве понимают такой прием мышления, допускаемый или прямо предписываемый правовой нормой и состоящий в признании известного несуществующего факта существующим или, наоборот, существующего обстоятельства несуществующим (так определил fictio juris, т.е. правовые фикции, еще Мейер, так определяют ее и современные юристы).
Данные явления были хорошо изучены представителями русского правоведения. В советское время они не привлекли особого внимания. Один из видных юристов прошлого, Р. Иеринг, охарактеризовал фикции как «юридическую ложь, освященную необходимостью… технический обман». Фикции широко использовались еще римскими юристами.
В качестве типичного примера фикции из российского законодательства обычно приводится положение о признании лица безвестно отсутствующим, которое гласит: «Гражданин может быть по заявлению заинтересованных лиц признан судом безвестно отсутствующим, если в течение одного года в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания.
При невозможности установить день получения последних сведений об отсутствующем началом исчисления срока для признания безвестного отсутствия считается первое число месяца, следующего за тем, в котором были получены последние сведения об отсутствующем, а при невозможности установить этот месяц — первое января следующего года» (ст. 42 ГК РФ).
Аналогичную ситуацию имеет в виду ст. 45 ГК РФ (объявление гражданина умершим), устанавливающая: «1. Гражданин может быть объявлен судом умершим, если в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания в течение пяти лет, а если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, — в течение шести месяцев…
Днем смерти гражданина, объявленного умершим, считается день вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим. В случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд может признать днем смерти этого гражданина день его предполагаемой гибели».
З.М. Черниловский отмечает, что смысл юридических фикций выражается вводными словами: «как бы», «как если бы», «допустим». Он приводит любопытный пример взаимосвязи фикции и презумпции из французского права, которое предусматривает, что в случае одновременной гибели мужа и жены в результате авиационной или автомобильной катастрофы муж считается умершим первым, его имущество переходит к жене, а от нее — к ее родственникам. Основанная на медицинской статистике презумпция большей живучести женщин превращается в данном случае в юридическую.
Фикции как юридико-технический прием имеет многовековую традицию. Данный метод был известен еще древнеримским юристам, которые, собственно, его и выработали. Вызвано же это было, прежде всего, тем, что римскому праву был свойственен известный формализм и консерватизм. В силу этого оно очень неохотно реагировало на изменения в общественных потребностях. Но на помощь пришла деятельность римских правоприменителей — преторов, которые в обход той или иной норме цивильного права фактически создавали свое собственное правило, которое отвечало бы запросам общества. Для этого они и стали прибегать к вымыслам. Например, чтобы взыскать с иностранца долг в пользу римского гражданина, необходимо было формально признать его гражданином Рима, откуда и возникла соответствующая преторская фикция.
Как мы уже говорили выше, фикция это есть выдумка, вымысел, нечто реально не существующее. Это особый прием, который заключается в том, что действительность подводится под некую формулу, ей не соответствующую или даже вообще ничего общего с ней не имеющую, чтобы затем из этой формулы сделать определенные выводы. Это необходимо для некоторых практических нужд, поэтому фикции закрепляются в праве. Фикция противостоит истине, но принимается за истину и никому не вредит.
studfiles.net
3.2 Юридические фикции
К таким же феноменам правовой действительности, которые не будучи юридическими фактами, тем не менее, могут порождать юридические последствия, относятся и правовые фикции.
Фикции (от лат. fictio — вымысел) представляют собой используемый в нормотворчестве специфический прием, известный еще римскому праву, суть которого выражалась формулой «fictio est contra veriitatem, sed pro veritate habetur» (фикция противостоит истине, но фикция принимается за истину). Римские преторы и юриспруденция с целью разрешения противоречий, возникавших между «строгим правом» и требованиями действительной жизни, необходимостью удовлетворения справедливого интереса в ущерб «старому праву» вводили в оборот юридические фикции. Черниловский З.М. Римское частное право: Элементарный курс. — М.: Новый Юрист, 1997 — С.6.
Фикции — это положения заведомо неистинные. Главное в фикции состоит в том, что, преследуя цель преодолеть действующий режим правового регулирования, наступление определенных правовых последствий закон связывает с заведомо не существующими в реальной действительности фактами. Одновременно «fictio legis inique operator alieni damnum vel unjuriam» (юридическая фикция не должна использоваться для того, чтобы причинить вред другому лицу).
Под правовой фикцией понимается положение, которое в действительности не существует, но которому право придало значение факта.
Примером фикции также может служить ст. 42 ГК РФ, которая гласит: «При невозможности установить день получения последних сведений об отсутствующем началом исчисления срока для признания безвестного отсутствия считается первое число месяца, следующего за тем, в котором были получены последние сведения об отсутствующем, а при невозможности установить этот месяц — первое января следующего года».
Фикцией считается и признание двух людей умерших в течение суток, умершими одновременно (п. 2 ст. 1114 ГК РФ) Гражданский кодекс РФ (часть 3) // Собрание законодательства РФ. — 2000.- N 49 — Ст. 4552..
Необходимость фикций в праве обусловлена тем, что они вносят четкость и определенность в регулирование общественных отношений, в правовое положение личности. Таким образом, по нашему мнению, еще одной предпосылкой (элементом) сложного юридического состава наряду с правоотношениями выступает и юридическая фикция.
39. Характеристика субъектов (участников), объектов, содержания правовых отношений. Юридические факты. Субъекты правоотношений. Понятие правосубъектности. Правоспособность и дееспособность.
В основном выводы теории права о содержательной стороне правоотношений сводятся к следующему.
В правоотношении всегда можно выделить четыре взаимодей-ствующих элемента: субъект правоотношения, объект правоотно-шения, субъективное право, юридическую обязанность. Прежде всего о субъекте правоотношения. Право превращает участника общественных отношений в субъекта правоотношений. Таким субъектом по современным теоретическим воззрениям может быть физическое лицо (инди-вид) и организационно оформленное коллективное образование.
К физическим лицам относятся граждане (в некоторых монар-хиях подданные), лица без гражданства, иностранные граждане. К организациям прежде всего относятся юридические лица, не-которые иные коллективные образования, само государство в целом (оно может выступать и в виде юридического лица в некоторых имущественных правоотношениях).
Теоретические представления о субъекте правоотношений в XIX—XX веках претерпевали большие изменения, отражая само динамическое развитие правовой системы. Так, еще в начале XX века шел спор: только ли живое, индивидуальное лицо может быть субъектом правоотношения? Развитие представлений о самой жизни, новые медицинские данные о пробуждении интел-лекта у человеческого зародыша (реакции на внешние раздражи-тели матери, на ее эмоции) привели к утверждениям о правах человеческого эмбриона, прежде всего на жизнь (как одно из обоснований протестов против абортов). И если раньше в XIX веке человеческий зародыш фигурировал исключительно в качестве субъекта наследственных отношений, то теперь он, по мнению многих ученых, стал и субъектом иных правоотношений, в том числе связанных с обеспечением жизни (концепции, осно-ванные на естественно-правовых идеях).
Различение разных субъектов правоотношений среди физичес-ких лиц имеет большой социальный, практический смысл. Те или иные категории этих субъектов могут иметь разные по объему и содержанию правомочия и нести разные обязанности. Например, иностранные граждане имеют в имущественном обороте, как правило, равные права с гражданами того или иного государства, но политические права (избирательное право, служба в армии) у них разные. В современной Украине есть и иные ограничения прав иностранных граждан. Так, иностранный гражданин не вправе учреждать газету. Определенные ограничения установлены и для лиц без гражданства.
Проблема гражданства и, соответственно, объема правомочий и обязанностей становится особенно актуальной на современном этапе украинского государства, когда свыше 5 миллионов сооте-чественников после распада СССР оказались за рубежом, в стра-нах так называемого ближнего зарубежья, в странах СНГ. В какой-то степени помогают решить эту проблему теоретические конструкции, вошедшие в законодательство, о двойном граждан-стве. В этом случае при наличии соответствующих договоров объем правомочий и обязанностей для гражданина Украины сохраняется, если даже место его жительства находит-ся за рубежом.
А могут ли быть субъектами правоотношений животные? Как будто странный, экзотический вопрос! Но его приходится теоре-тически решать, когда сталкиваешься, например, со случаями передачи завещанием наследственного имущества любимой со-бачке, кошке: увы, такие редкие, экзотические случаи также приметы взбалмошного XX века, причуды богатых людей. Разу-меется, тут опять же, по существу, речь идет об отношениях между конкретными людьми по поводу содержания конкретного живот-ного, но никак не между человеком и животным. Хотя история права знает и наказание животных (в средние века, в борьбе с так называемыми ведьмами), да и у одного из церковных колоколов в свое время вырвали по приговору язык за «призыв» к бунту. Словом, субъектный состав правоотношений только со временем отлился в четкий набор физических лиц и коллективных образо-ваний, прежде всего юридических лиц.
В современном гражданском законодательстве почти всех го-сударств получило четкое определение юридическое лицо — кол-лективный участник прежде всего экономического оборота.
Потребности включать в экономический оборот, в систему товарно-денежных, имущественных отношений коллективные хозяйственные образования (компании, фирмы) привели к появ-лению уже в XIX веке теоретической конструкции юридического лица.
Но поскольку это означало принципиальный отход от пред-ставлений о субъектах правоотношений как исключительно живых, индивидуальных лицах, немецкий юрист ученый Савиньи (тот самый, с именем которого связана историческая школа права) разработал так называемую концепцию юридических фик-ций.
Он выделил ряд общепризнанных юридических условностей, фикций, которые, однако, признаются реальностями и в этом качестве участвуют в правовой жизни, в правовых отношениях. Например, признание в установленном порядке безвестно отсут-ствующего в течение определенного срока лица — умершим. Такой же юридической фикцией Савиньи считал и юридическое лицо.
Однако развитие правовых форм экономического оборота, развитие новых форм экономических, прежде всего товарно-де-нежных, отношений привели к становлению юридического лица в XX веке в качестве вполне реального субъекта правоотношения, со своими вполне четкими характеристиками, закрепленными в законодательстве, в том числе в Гражданском кодексе РФ.
Вообще, проблеме юридических фикций, превращению их первоначально условного содержания во вполне реальное уделя-ется мало внимания в теории права. А жаль! Теория фикций, например, хорошо объясняла бы все сложности процесса прива-тизации, который идет в России в конце XX века.
Действительно, первоначально приватизация через акциони-рование как содержание процесса появления коллективной част-ной собственности, как утверждение о появлении класса собст-венников, коллективно управляющих приватизированным пред-приятием,— это, конечно, очередная юридическая фикция. Но процесс только начался, и в перспективе эта фикция может смениться реальными правовыми отношениями в этой области.
Исторически определение юридического лица как субъекта правоотношения пошло по пути выделения основных черт, нали-чие которых позволяет считать то или иное коллективное обра-зование юридическим лицом и «иметь с ним дело» другим орга-низациям, другим субъектам правоотношений. И хотя подробно тема о юридическом лице рассматривается в науке гражданского права, в рамках теории права также необходимо рассмотреть некоторые основные характеристики юридического лица как кол-лективного субъекта правоотношения.
Прежде всего, это — организационное единство, т.е. наличие в коллективном субъекте управленческих, организационных связей, образованных для ведения хозяйственной (коммерческой), некоммерческой, иной деятельности, для достижения целей, обо-значенных в уставе, учредительном договоре.
Далее юридическое лицо — это организация, которая обладает обособленным имуществом, имеющая, как правило, текущие и расчетные счета в банках, способная использовать свое имущест-во, денежные средства в экономическом обороте.
К этим организационным и имущественным характеристикам юридического лица следует добавить и правовые: организация может от своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести соответствующие обязанности; быть истцом или ответчиком в суде, арбитраже или третейском суде.
Гражданский Кодекс Украины так определил юридическое лицо в статье 23: «юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственном, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обяза-тельствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные права, нести обязан-ности, быть истцом и ответчиком в суде».
Устанавливается еще одно правило — юридическое лицо счи-тается созданным с момента его государственной регистрации.
Существование того или иного юридического лица в совре-менной Украине, таким образом, начинается с момента его реги-страции в Министерстве юстиции Украины.
На этом обстоятельстве следует остановиться подробнее. В мировой практике есть два способа организации и ведения хо-зяйственной коллективной деятельности: разрешительный и уве-домительный.
При разрешительном основную роль играет регистрация по определенным правилам, в определенном порядке, в определен-ных государственных органах. Социальный смысл регистрацион-ного способа — контроль государства (чиновник при этом играет решающую роль) над созданием и деятельностью коллективных субъектов. Только после регистрации субъект имеет право участ-вовать в хозяйственной жизни.
При уведомительном — сами субъекты сообщают (уведомля-ют) регистрирующий орган о создании и деятельности коллектив-ного субъекта. Такой субъект действует, как правило, с момента посылки уведомления о своем создании. Социальное различие этих двух способов возникновения юридического лица становится вполне понятным. При первом — сохраняется контроль государства, чиновник может демонстри-ровать все свое значение, обеспечивает свое присутствие в эко-номической жизни.
При втором — государству отводится роль регистратора, участ-ника хозяйственных процессов.
В качестве коллективного субъекта могут участвовать в право-отношениях не только юридические лица, но и такие субъекты, как государство, например в правоотношениях, основанных на общепризнанных принципах и нормах международного права. Но государство во многих имущественных, в том числе бюджетных, отношениях может выступать и как юридическое лицо, как «казна». Подробно эти вопросы обсуждаются в рамках наук госу-дарственного, финансового права.
А для теории права при изучении субъектного состава право-отношений, в том числе физических субъектов правоотношений, возникают еще несколько ключевых вопросов, на которые надо давать ответы, чтобы раскрыть суть правоотношений.
Один из них — это вопрос о том, все ли физические участники общественных отношений и в какой степени могут обладать теми правами и нести те обязанности, которые «даруют» им нормы объективного права?
Второй — кто и в какой степени может нести ответственность за конкретные нарушения в связке «правомочия — обязанности» конкретного правоотношения?
Для ответа на первый вопрос теория права сформулировала понятие правоспособности, т.е. абстрактной способности каждо-го участника общественных отношений с момента рождения и до момента смерти быть обладателем, носителем прав. Эта способ-ность получает законодательное закрепление прежде всего в граж-данском законодательстве. Статья 9 ГК Украины устанавливает, что способность иметь гражданские права и нести обязанности (граж-данская правоспособность) признается в равной мере за всеми гражданами. Правоспособность гражданина возникает в момент его рождения и прекращается смертью. Содержание гражданской правоспособности весьма обширно — от права собственности на имущество до «иных имущественных и личных неимущественных прав».
На последнее обстоятельство следует обратить особое внима-ние. Да, абстрактной способностью иметь гражданские права и нести обязанности в том или ином объеме обладают все граждане в равной мере с момента рождения и до смерти. Но так обстоит дело только с гражданскими правами и обязанностями. Что же касается иных прав (политических, некоторых социальных, лич-ных и других прав), то распространение на эти права конструкции равной возможности (способности) иметь их всеми субъектами правоотношений требует уточнений. Прежде всего это касается такой характеристики субъекта правоотношения, как объем пра-воспособности, который глубоко исследовался еще в дореволю-ционной юридической литературе.
Все люди являются правоспособными, но не в равной мере, не в одинаковом объеме.
Это обусловлено, прежде всего, различием между людьми: и по творческим способностями, и по наличию воли, и по умст-венному и нравственному развитию. Разве можно предоставлять одинаковые права ребенку и взрослому, умалишенному и здраво-мыслящему?
Разной способностью иметь политические права обладают граждане государства и иностранные граждане и т.д.
В этой связи теория права кроме правоспособности вводит понятие дееспособности, которое также характеризуется своим объемом. Под дееспособностью понимается способность лица самостоятельно совершать юридические действия, т.е. вступать по собственной воле или желанию в те или иные правоотноше-ния, приобретать права, осуществлять свои права, выполнять свои обязанности. Не все правоспособные лица оказываются дееспособными.
Возраст, состояние здоровья «разрушают» единство правоспо-собности и дееспособности. Например, ограничение дееспособ-ности распространяется на детей и людей, страдающих дефектами воли и сознания (на сумасшедших).
В полном объеме дееспособность наступает при достижении совершеннолетия.
Таким образом, на объем правоспособности и дееспособности влияет возраст, в первую очередь возраст гражданского совершен-нолетия, достижение которого делает конкретное лицо дееспо-собным для совершения различных юридических сделок.
В законодательствах всех стран определяется и возраст поли-тического совершеннолетия, с достижением которого гражданин приобретает политические права (избирать и быть избранным на различные общественно-политические должности, судебные должности и т.п.). Однако в тоталитарных государствах объем политической правоспособности зависит не только от возраста, но и от партийной принадлежности, признания господствующей идеологии. Иногда это закрепляется в конституции, когда партии придается юридически руководящая роль, иногда это фактически реализуется путем установления так называемой номенклатуры.
Определяет законодательство и возраст брачного совершенно-летия, когда человек приобретает юридическую способность всту-пать в брак.
В законодательстве ряда стран на объем правоспособности влияет пол, а именно сохраняются некоторые ограничения для участия женщин в политической жизни. Борьба за равноправие полов, т.е. за равные объемы правоспособности, завершилась в конституциях принципом равноправия независимо от пола, так же как и от других социальных, расовых, национальных характе-ристик. И тем более странно, когда в объявлениях, публикуемых в российских средствах «массовой информации, до сих пор сохра-няются обозначения: «требуется на работу бухгалтер, счетовод, юрист и т.п.» «м» (мужчина), а «ж» (женщина) не требуется». Конечно, это дело работодателя определить окончательно, кого он возьмет на работу. Но объявлять официально предпочтение по признаку пола — это нарушение и конституции, и основополага-ющего принципа равных объемов правоспособности.
Правда, есть и иные взгляды на эту проблему, которые отри-цают необходимость такого равноправия под предлогом разного предназначения женщин и мужчин, разных способностей и иных различий. Идут иногда такие предложения также и от женщин.
Однако история свидетельствует, что принцип равноправия — это большое достижение цивилизации.
На правоспособность влияет и здоровье лица. О дефектах воли и сознания речь уже шла. Важно определить области, где учет здоровья для возникновения правоотношения становится особен-но важным.
В частности, здоровье относится к брачной правоспособности. Уже в дореволюционной литературе, где специально исследовался этот вопрос, выделялись разные обстоятельства. Например, по-ловое бессилие может служить поводом к расторжению брака. Душевные болезни лишают человека политических прав и дее-способности. Глухота и слепота, естественно, препятствуют по-ступлению на государственную службу.
На правоспособность влияет и родство. Прежде всего речь идет о браке. Близкие родственники не имеют права вступать друг с другом в брак. Так, зародившиеся в глубокой древности запреты на инцесты, о которых шла речь в предыдущих выпусках, в конце XX века получили всеобщее правовое закрепление.
Однако родство влияет не только на брачную правоспособ-ность, но также и на занятие определенных должностей на госу-дарственной службе, когда надо ограничить так называемую «се-мейственность», иные родственные отношения.
В государствах, имеющих теократические тенденции, на пра-воспособность может влиять и религия. В некоторых государствах одна из религий признается господствующей. И тогда «иновер-цы», граждане иного вероисповедания могут иметь формальные ограничения или ограничения, складывающиеся на бытовом уровне, для занятия тех или иных должностей, проживания в тех или иных местностях, обучения и т.п. Так было, например, в царской России, знавшей «черту еврейской оседлости», норму для принятия в учебные заведения лиц иудейского вероиспо-ведания.
В настоящее время во многих государствах, закрепивших в конституции свой светский характер, осуществляется полная ве-ротерпимость, запрещается господствующая идеология.
Однако вопрос господствующей религии в настоящее время остается весьма сложным, в том числе в современной России. Традиционно в российской государственности существует про-блема сектантства, наличия разных конфессий и места в системе конфессий православия.
Борьба с сектантством, ограничения свободы проповеди раз-ных проповедников, принадлежащих к «вредным» антисоциаль-ным сектам (чего стоит пример только с сектами «Аум синрике», «Белое братство» и т.п.) показывают, что правоспособность тех или иных лиц, принадлежащих к подобным сектам, объективно нуждается в ограничениях. Но, думается, должно это осущест-вляться в законном порядке, устанавливаться судом.
Возникают и новые вопросы об отношении к религии. В частности, и такой — в какой мере идеи о загробной жизни могут препятствовать террористическому использованию оружия, если оно попадает в руки террористов-«камикадзе», в том числе ядер-ного. В фундаменталистском исламе смерть в джихаде (священ-ной войне) считается благом, способом прямого перемещения в рай. Она не служит сдерживающим началом для террористов. Иное дело православие, запрещающее самоубийство. Вообще, появление оружия массового поражения, в том числе химическо-го, биологического, по-новому ставит вопрос о борьбе с терро-ризмом, который может оказаться грозным способом достижения целей национально-освободительных, религиозных движений. Не менее сложен и вопрос о соотношении конфессий, существующих в современной Украине. Ясно только одно, что в свет-ском государстве, каким сегодня является Украина, недопустимо ограничивать правоспособность по признаку вероисповеданий.
В свое время в царской России «совращение» кого-либо из православия в другое вероисповедание считалось уголовным пре-ступлением, тогда как «обращение» иноверца в православие под-держивалось законодательством. В настоящее время, как отмеча-лось, такой подход преодолен. Объем правоспособности ныне независим от религиозных воззрений. Это стало большим кон-ституционным завоеванием, важнейшим принципом.
Однако в некоторых государствах, где господствует мусульман-ская религия, еще существуют ограничения для гражданских и политических прав по вероисповедальному признаку.
К концу XX века преодолено в большинстве государств и различие в правоспособности, существовавшее в некоторых стра-нах по признакам расы, национальности.
В США, например, преодолена сегрегационная идеология, и роль судебных прецедентов, обеспечивших десегрегацию, была.
В современной Украине определение национальности стало делом гражданина, а не государства. Конституция позволяет рос-сийскому гражданину вообще отказываться от определения своей национальности. Этой нормой, пока, на этом этапе закончилась правовая история пресловутого «пункта пятого» — графы почти во всех документах, в которой обязательно должна была указы-ваться национальность (в паспорте, анкете и т.д.).
Еще одним условием, влияющим на правоспособность физи-ческого лица, является то, что в дореволюционной юридической литературе называли гражданской честью. Она состоит из при-знания за человеком доброго имени, личного достоинства, кото-рое принадлежит каждому гражданину, не умалившему эти свои характеристики неблаговидными поступками. Наличие граждан-ской чести позволяет каждому гражданину участвовать в эконо-мической, политической и иной деятельности.
Однако умаление гражданской чести, подтвержденное судеб-ным приговором, может ограничивать правоспособность гражда-нина на занятие той или иной должности, той или иной деятель-ностью. Разумеется, тут совершенно недопустим произвол и речь может идти о таком умалении только на законных основаниях и только в установленном порядке.
И, наконец, ответ на второй вопрос — о способности нести юридическую ответственность. Тут решающую роль играют дееспособные характеристики субъекта правоотношения. Если этот субъект дееспособен, то естественно, он может нести и ответст-венность за нарушение тех или иных обязанностей. Если же он недееспособен («повреждение» духовного характера — сумасше-ствие, возрастные ограничения), то, конечно же, о юридической ответственности не может быть и речи.
Отсюда появление такого понятия, как деликтоспособность, т.е. способность субъекта правоотношения нести юридическую ответственность за нарушение тех или иных правовых требова-ний.
Деликтоспособность — это также зависимая от правоспособ-ности и дееспособности характеристика субъекта правоотноше-ния.
Деликтоспособность — это установленная законом способ-ность лица отвечать за свои поступки при совершении правона-рушений: преступлений, проступков, деликтов (нарушений в гражданско-правовой сфере).
Рассмотрение всей системы факторов, влияющих на объем правоспособности, показывает, как тесно переплетены между собой правоспособность и дееспособность субъекта правоотно-шений. В некоторых случаях объем правоспособности влияет на дееспособность, например невозможность осуществлять свои права на вступление в брак. С другой стороны, конкретная дее-способность гражданина всегда свидетельствует о его правоспо-собности.
Поэтому теория права создала еще одну конструкцию, опре-деляющую эту взаимозависимость, а именно правосубъектность. Это понятие и характеризует конкретный объем правомочий и обязанностей, которым обладает конкретный субъект правоотно-шений и который он может осуществлять в конкретном правоот-ношении. Кроме того, эта категория включает в себя деликтоспособную характеристику субъекта правоотношения.
Таким образом, правосубъектность включает в себя как пра-воспособность и дееспособность, так и деликтоспособность субъ-екта правоотношения.
В литературе можно встретить и понятие «правовой статус», которое в общем синонимично понятию «правосубъектность». Различие в том, что правовой статус гражданина определяет набор прав, которыми гражданин обладает для вступления в гипотети-ческое, возможное правоотношение, а правосубъектность — это Уже характеристика правомочий конкретного субъекта в конкрет-ном правоотношении.
Проблема правоспособности и дееспособности имеет отноше-ние и к коллективным субъектам правоотношения — государст-венным органам, юридическим лицам и т.д.
Но для их характеристики не применяются эти понятия. Для одних коллективных субъектов, как правило, государствен-ного органа, применяется понятие компетенции, т.е. наличия властных полномочий в определенной сфере (предмете ведения), которыми государственные органы наделяются для осуществле-ния своих функций, решения задач. Для других — организа-ционно-правовая форма, содержание которой определяется в уставах, учредительных документах различных хозяйствующих субъектов путем обозначения цели, способов хозяйствования и т.д.
Таким образом, компетенция — это характеристика правоспо-собности государственных органов, а организационно-правовая форма — иных коллективных субъектов (например, акционерных обществ, фирм и т.п.). Используется для характеристики коллек-тивных субъектов и понятие «правовой статус». При этом имеется в виду место государственного органа в системе управления, форма собственности, которая лежит в основе организационно-правовой характеристики субъекта, другие критерии.
Теперь о следующих элементах правоотношения — субъектив-ном праве и юридической обязанности.
Выделение субъективного права в составе правоотношения является необходимым, если иметь в виду, что правоотноше-ние — это отношение как минимум двух субъектов. И понятие субъективного права определяет распределение прав и обязаннос-тей этих как минимум двух субъектов с тем, чтобы возможность определенного поведения одного субъекта не уничтожала воз-можности определенного поведения другого субъекта.
В этом смысле и говорится о субъективном праве как о мере возможного, свободного поведения одного субъекта и о юриди-ческой обязанности как мере должного, обязательного поведения другого субъекта. Мера должного поведения обозначается как юридическая обязанность.
Традиционно в теории субъективное право определяется как гарантированная законом мера возможного (дозволенного, управомоченного) поведения субъекта, а субъективная юридическая обязанность — это мера предписанного законом необходимого совершения обязанным лицом определенного действия (или воз-держания от такового) с целью соблюдения субъективного права. Субъективное право содержит в конкретном правоотношении указание на возможность поведения, на меру этого возможного поведения, на осуществление прав в интересах управомоченного, на обеспечение государственной охраны, защиты прав управомоченного. Эта мера определяет сумму возможных правомочий в субъективном праве.
Например, право собственности в правоотношениях раскры-вается в своих правомочиях — субъект имеет правомочия владе-ния, пользования и распоряжения имуществом.
А право журналиста на получение информации от государст-венного органа раскрывается в конкретном правоотношении как правомочие знакомиться с информацией, получать разъяснения, копию документа.
Выделяет теория и еще одно значение правомочия — притя-зание. Это такое правомочие, которое четко требует совершения конкретного действия обязанным лицом, органом, государством в интересах управомоченного субъекта правоотношения.
Общая характеристика субъектного права убедительно пока-зывает, что это право, в сущности, есть не что иное, как мера внешней свободы одного субъекта по отношению к другому субъекту.
Поэтому-то субъективная юридическая обязанность — это также не что иное, как необходимое (должное) поведение, мера этого поведения, удовлетворяющая интерес управомоченного. Исполнение этой меры осуществляется субъектами правоотноше-ний, обеспечивается в необходимых случаях государством.
Правоотношение может быть простым (например, при притя-заниях на возмещение вреда), сложным — когда в нем наличест-вуют несколько притязаний и обязанностей нескольких субъек-тов. Среди субъектов, имеющих субъективные права и юридичес-кие обязанности, могут быть физические лица, коллективные субъекты.
Конечно, если правоотношение строится по схеме обязатель-ного отношения — правомочиям одного конкретного субъекта соответствуют обязанности другого субъекта, — тогда все обстоит относительно просто. Это так называемые обязательственные правоотношения (например, отношения, возникающие при сдел-ке купли-продажи).
Однако многие правоотношения строятся и по иному типу, когда правомочиям одного субъекта — его субъективному праву — соответствуют обязательства неопределенного круга лиц (субъектов). Например, в правоотношениях собственности субъекту-собственнику противостоит неопределенный круг лиц, обязанных не препятствовать собственнику владеть, пользоваться, распоря-жаться своим имуществом. Это так называемые абсолютные пра-воотношения.
studfiles.net
Юридические фикции
1.Понятие юридической фикции Что же такое юридическая фикция? В отличие от презумпций здесь нет особых противоречий, и вывести определение не составит особого труда. Чаще всего под фикцией в праве понимают такой прием мышления, допускаемый или прямо предписываемый правовой нормой и состоящий в признании известного несуществующего факта существующим или, наоборот, существующего обстоятельства несуществующим (так определил fictio juris, т.е. правовые фикции, еще Мейер, так определяют ее и современные юристы).
2. Немного истории Фикции как юридико-технический прием имеет многовековую традицию. Данный метод был известен еще древнеримским юристам, которые, собственно, его и выработали. вызвано же это было пржде всего тем, что римскому праву был свойственен известный формализм и консерватизм. В силу этого оно очень неохотно реагировало на изменения в общественных потребностях. Но на помощь пришла деятельность римских правоприменителей — преторов, которые в обход той или иной норме цивильного права фактически создавали свое собственное правило, которое отвечало бы запросам общества. Для этого они и стали прибегать к вымыслам. Например, чтобы взыскать с иностранца долг в пользу римского гражданина, необходимо было формально признать его гражданином Рима, откуда и возникла соответствующая преторская фикция.
3. Значение фикций в правоприменении и законотворчестве Юридическая фикция со времен римского права прочно вошла в правовую традицию как юридико-технический прием. Широко используется она и в российском праве. И тут никак нельзя согласиться с некоторыми исследователями, утверждающими, что фикции исчерпали себя тем, что позволили римскому праву преодолеть свой консерватизм. Если мы откажемся от фикций, то придется навсегда забыть о таких правовых категориях, как юридическое лицо, представительство, снятие судимости, бездокументарные ценные бумаги и т.д. Фикции используются во всех без исключения отраслях права. Достаточно сказать, что более половины норм гражданского процесса построено на фикциях!
В чем же причина такого повсеместного распространения фикций в праве? Это легко объясняется тем, что любое законодательство (а особенно в романо-германской правовой системе), будучи консервативной системой взаимосвязанных понятий и категорий,не всегда успевает за потребностями жизни, за вновь возникающими явлениями. Другая причина — следование принципу экономичности в законотворческой деятельности. Гораздо проще придать условный правовой режим объекту, для которого это не свойственно, чем создавать усложненные правовые конструкции, при помощи которых регулирование будет иметь громоздкий характер.
Т.о. фикции вызваны в свет необходимостью удовлетворять новым потребностям имеющимися правовыми средствами. И отказаться от них, не дав ничего взамен, значит ввергнуть весь отлаженный механизм правового регулирования в хаос.
4. Система фикций Система фикций во многом повторяет систему презумпций. Единственное, на что следует обратить внимание так это деление фикций в зависимости от способа их выражения. На этом основании выделяют фикции, выраженные в виде простых суждений и в виде предположений. Ярким примером последних является презумпция знания закона. Если проанализировать данное предположение (о знании закона всеми гражданами), то наталкиваешься на очень интересный вывод — презумпция знания закона вовсе никакая не презумпция, а самая настоящая фикция.
Действительно, сложно представить себе не то, чтобы простого человека, но даже юриста, который с гордостью мог бы заявить, что знает все без исключения законы своего государства. Но этого и не требуется. Достаточно, что каждому предоставляется возможность ознакомится с нормативно-правовыми актами. Так что это, как не юридическая фикция? Т.о. мы вплотную подошли к вопросу о разграничении понятий «фикция» и «презумпция» в праве.
studfiles.net
положительная или отрицательная составляющая права
Болдыш Анастасия ЮрьевнаГлавный специалист юридического отдела управления делами администрации городского поселения Излучинск, Нижневартовского района, ХантыМансийского автономного округа –Югры[email protected]Аннотация.Статья посвящена вопросам наличия юридических фикций в праве, их исторические основы, современное положение. Автор рассматривает положительные и отрицательные аспекты юридических фикций на разных стадиях правового регулирования. Ключевые слова:фикции, пробелы в праве, юридическое лицо, субъект правоотношения, объект правоотношения, юридический факт, фиктивные нормыЮридические фикции: положительная или отрицательная составляющая праваВ истории научной мысли нередко можно увидеть многократное открытие одного и того же явления, повторение аналогичных друг другуобобщений, вэтих открытиях можно обнаружить одни черты, но между тем, следует отметить, чтоне всегда речь идет о какихлибо заимствованиях.Появление пробелов провоцирует рождение такого понятия как «фикция». В отличие от средневекового права, где фрагментарность действующего законодательства компенсировалась единством его Божественного источника, право более позднего времени нуждалось в искусственном воссоздании своего единства. Таким образом, вопросы юридической техники и искусство государственного управления выходили на первый план, оттесняя абсолютнуюзначимость нормы. Казалось, что если правительство и способно достичьнеобходимых ему целей, то конечно, не с помощью законов.[1]Техника инквизиционного процесса и теория формальных доказательств создавали благоприятные условия для действия юридической фикции. Термин «фикция» (fictio) имеет многовековую традицию. В переводе с латинского языка фикция означает «выдумка, вымысел». Фикция выражается преимущественно с помощью некоторых лингвистических конструкций, например «как бы», «как если бы», «допустим», «эквивалентно», «считается» и пр.[2] Пробел в праве означает большую значимость, чем пробел в законодательстве. Во втором случае –это вопрос юридической техники, в первом –болееосновательные причины. Но для фикциив обоих случаяхприоритетимеют юридические факты достаточной значимости, либо их отсутствие, которую следует сохранить или восстановить. Под пробелом понимается разрыв, логический и содержательный, в правовом пространстве. Он объективен и образуется под действием самых разнообразных факторов. Фикция последовательно и рационально мотивирована, она результат целеполагания. Появление пробелов непредсказуемо, а действие фикции прогнозируется в будущее, т.е. планируется.[3] Пробел в праве является фактом, в определенной ситуации приобретающим юридическое значение. Фикция отрицает его наличие, для нее побудительными мотивами служат представления о справедливости и пользе. Зачастую целесообразность здесь вступает в противоречие с законностью в ее привычномпонимании. Более широкое толкование нормы сужает сферу применения юридической фикции. Под словом «фикция», английский юрист Генри Мен подразумевал «предположение, которым прикрывают или стараются прикрыть тот факт, что правило закона подвергалось изменению, т.е. что его буква осталась прежней, а применение изменилось».[4] Несмотря на то, что различными авторами даются дифферентные определения термина «фикция», они в большинстве своем обладают рядом основополагающих признаков. В их число входит: отнесенность фикции к приему юридической техники, «заведомая неистинность», «заведомая условность», способность фикций вызывать друг друга, особое целевое назначение в механизме правового регулирования общественных отношений, мнимость и ложность, использование в качестве временного вспомогательного понятия.[5] Понятие «фикции» является достаточно распространенным и имеет множество определений, например, по мнению известного российского цивилиста Д.И. Мейера,фикция является «вымышленным существованием факта, о котором известно, что он вовсе не существует в измененном виде».[6] В.К. Бабаев, полагал, что фикцией является «несуществующее положение, признанное законодательством существующим и ставшее в силу этого общеобязательным».[7] [8] Юридическая фикция –это универсальный техникоюридический прием разработки и реализации норм права, состоящий в признании несуществующего положения существующим и наоборот, имеющий особое целевое назначение в механизме правового регулирования общественных отношений и являющийся одним из способов преодоления состояния неопределенности в правовом регулировании.[9] Юридическая фикция –это преднамеренно созданное неоспоримое положение, которое не соответствует реальной действительности и императивно содержится в нормах права с целью вызвать или не допустить определенные последствия.[10] Анализ исторического развития законодательства позволяет сделать вывод о том, что фикции были известны Древнему Востоку, римскому праву, древнерусскому праву, а также и по сей день являются предметом изучения в современном российском праве.Древневосточное право в изобилии содержит в себе фикции, например,в положениях Законов Хаммурапи (1792 –1750 гг. до н.э.). Например, в параграфе 7 ст. 77 Свода законов Хаммураписказано: «Если человек купит из руки сына человека или из руки раба человека без свидетелей и договора или возьмет на хранение серебро, либо золото, либо раба, либо рабыню, любо вола, либо овцу, либо осла, либо что бы то ни было, то этот человек –вор, его должно убить».[11] Таким образом, следует отметить, что Законы Хаммурапи причисляли к ворам лиц, фактически ими не являвшимися, поскольку в соответствии с реальными фактами человек, купивший чтото, на самом деле вором не является.Вримском праве определение юридической фикции отсутствовало. Так, римский юрист Яволен Прискус указал: «Всякое определение в гражданском праве опасно, ибо мало случаев, когда оно не может быть опровергнуто».[12] Отсутствие определения фикции компенсирует богатый практический материал. Из всего многообразия юридических фикций, существовавших с римском праве, можно выделить следующие: лицо не могло претендовать на возмещение ущерба, если оно само было виновато в его причинении; непонятные слова в завещании считались ненаписанными. Такие фикции действовали в различных областях римского права, способствуя регулированию быстро изменяющихся отношений и достижению целей, запрещенных римским правом.[13] Примером фикции в древнерусском праве может послужить формулировка ст. 2 Краткой редакции «Русской правды»: «Если придет на суд человек, избитый до крови или в синяках, то не надо искать свидетеля, но если не будет на нем никаких следов побоев, то он должен привести свидетеля.Если он не может привести его, то делуконец. Если потерпевший не может мстить за себя, то пусть возьмет с виновного 3 гривны и сверх того плату лекарю».[14] В указанном случае фиктивным будет вывод суда об установлении или опровержении факта, по которому не допрошены свидетели, не произведено освидетельствование, не были предоставлены дополнительные доказательства причастности лица к совершенному преступлению против жизни и здоровья. Фиктивно положение и об определении размера компенсации морального вреда, причиненного потерпевшему. Почему потерпевший, имея право мести в соответствии с данной нормой в случае отсутствия возможности мести, не вправе потребовать с виновного возмещения в ином размере? Очевидно, что выводы суда могут не совпадать с реальной действительностью, так как факт причастности именно данного лица к содеянному не установлен, не допрошены свидетели, не произведено освидетельствование и иные мероприятия.В вышеизложенном случае фикции упрощают производство по делу, сокращают ход и объем доказательств, учитывают судом позицию лишь одной из спорящих сторон, но и здесь они необходимыдляосуществления правосудияпо делу.Согласно ст. 38 Краткой редакции «Русской Правды»: «Если убьют вора на своем дворе или у клети, или у хлева, то за это не отвечают как за убийство, если же вора держали до рассвета, то привести его на княжеский двор на суд. Но если вора убьют, а люди видели его связанным, то надо платить за него».Таким образом,в первом случае, когда лишение жизни происходит на территории собственника сразу на месте преступления, это не считается убийством (условно), а во втором считается убийством, если смерть наступила не сразу, а после поимки и связывания вора. Данному виду фикции присуща «многоуровневость»,которая характеризуется заведомой условностью, неопровержимостью, таккак данное утверждение в силу его нормативного закрепления императивно,а такжеслужит специальным средством правового воздействия на общественные отношения.Проанализировав нормы древних источников права, таких как Законы Хаммурапи, «Русская Правда», римское право на предмет применения категории фикции, можно прийти к следующему выводу, что, несмотря на разность в религиозных воззрениях, менталитете, геополитических факторах, фикции пронизывают все сферы общественной жизни и прочно входятв качестве регуляторов в систему древних правовых источников даже на самых ранних этапах их формирования.
Так, примечательным является тот факт, что у народов, имеющих в контексте рассматриваемых периодов более высокий уровень развития, в том числе и права, наблюдается более гармонично выстроенная система фикций в праве. Пример тому источники классического римского права в противовес «Русской Правде».Также историю возникновения и развития фикций можно проследить на примере церковного права, а именно совокупности правил, санкционированных или установленных государством, регулирующих внутреннюю организацию церковных объединений и учреждений, а также взаимоотношений верующих и государства.Священные писания включают в себя огромное число предписаний, содержащих фикции, безкоторых развитие мировой правовой мысли и действующего права было бы невозможным. Примером служит библейское правило –«око за око», воспринятое Кораном, что в переводе на юридический язык означает признание принципа эквивалентности и равного воздаяния, или иначе, равное наказание за равное с ним по тяжести правонарушение. По существу, оно совпадает с разработанным римской правовой традицией принципом правового равенства (aeguitas). Заповеди «не убий», «не укради» могут восприниматься как требование морального, религиозного и правового характера одновременно.[15]Данные факты свидетельствуют о том, что мировая правовая культура не мыслима без того вклада, который внесли в нее священные писания основных религий, основой которых, выступали символические фиктивные образы и элементы.Одним из интересных примеров юридической фикции в истории церковного права, выступает такая категория, как «индульгенция».Индульгенция связана с церковными наказаниями, которые совершались на основе церковного права древних и средних веков. Но что наиболее важно –это система признания удовлетворения за совершенный грех, т.е. его искупление, определение эквивалента важности преступления, который можно было определить только лишь условно, путем применения юридических фикций.[16]Индульгенция означала разрешение от наложенной епитимии. Изначально церковные обряды состояли в публичном, по большей части годичном, покаянии, посредством которого согрешивший и исключенный из общины должен был доказать искренность и твердость раскаяния. Доказательством раскаянии могли служить добрые дела, пост, молитва, милостыня, путешествия к святым местам, совершенные добровольно или возложенные ранее. Оставалось сделать один шаг, чтобы признать добрые дела удовлетворением за совершенный грех, что и случилось в Западной церкви, под влиянием германских правовых понятий.[17]Данный гражданскоправовой обычай, перенесенный на религиозные отношения, вызвал представление об удовлетворении Бога как пострадавшей стороны. Индульгенции восточных патриархов, известные под названием разрешительных грамот, были распространены в Малороссии и на Руси в XVIIв. Они продавались за деньги и «разрешали от всех грехов, не поминая ни слова об исповеди и покаянии». [18] Таким образом, такой пример зарождения и распространения категории юридической фикции в церковном праве подтверждает тот факт, что после введения юридической фикции с целью более обширной трактовки явлений, процессов в последующем вводится еще не одна фикция. В свою очередь фикции, в совокупности, порождают те общественные и правовые нормы, на которые ориентированы государства в своем современном развитии.
«Теория фикции» юридического лица впервые сформулирована в 1245 г. папой римским Иннокентием IV. Он заявлял, что корпорация (юридическое лицо) не имеет души, а существует лишь в воображении людей, будучи persona ficta, т.е. фиктивным, не существующим в реальности лицом.[19] Между тем,папа Иоанн XXII признал, что, хотя корпорация как юридическое лицо не имеет души и у нее нет подлинной личности, она всетаки имеет фиктивную личность в силу юридической фикции и в силу этой же фикции имеет душу и потому может совершать правонарушения и может быть подвергнута наказанию.[20] Таким образом, следует отметить, что согласно теориификциидействует не само юридическое лицо, а только его члены, так как само оно является лишь отвлеченным понятием, бестелесной вещью, неспособной ни к волевым, ни к физическим актам. Рассматриваемая теория в своем нечетком выражении нашла свое применениеи являлась одной из основных в этой области и в древние века.Против юридических фикций выступал Г.Ф. Дормидонтов: «…фикции вводятся вопреки истине и имеют силу иногда устранять истину».[21] Фикция является антиподом закона, категорией социальнопсихологической, политикоидеологической и правовой, ее сущность состоит в отчуждении закона от интересов общества. Эта сторона понятия юридической фикции остается не разработанной в правовой науке. Негативное понимание фикции прижилось в формулировкахтакихправовых нормкак: «лжесвидетельство», «фиктивная сделка», «фиктивный брак», «фиктивный обмен», «фиктивное банкротство», «фиктивная норма». Как показывает анализ юридической литературы, употребление данной категории уместно не только в негативном, но и в положительном смысле. Х. Файхингер основоположник гносеологической теории, учения «Философия как если бы» придавал фикциям положительное значение. «Фикции суть сознательноложные понятия и представления, т.е. такие понятийные предпосылки познания, которые являются неотрицательным побочным результатом исследования, а наоборот, сознательно применяемыми его средствами. Фикции полезны в достижении искомого результата».[22] На сегодняшний день распространенность, а стало быть и роль, юридических фикций значительно возросла. Это связано с реформацией правового регулирования, появлением в нем принципиально новых областей, нахождение оптимальных путей дальнейшего развития государства и права. Расхождение во взглядах на юридические фикции в научной литературе, по сути, происходит изза того, что они понимаются в отрыве от процесса правового регулирования либо применительно только к какойто одной его стадии. Однако юридические фикции на каждой из стадий правового регулирования предстают в определенном виде, присущем только этому этапу.[23] Так, мнениями ученых выделяются следующие цели применения фикций:
регулирование отношений, не предусмотренных действующим законодательством;
преодоление состояния неопределенности в правовом регулировании путем устранения пробелов в законодательстве;
«юридическая экономия» юридическая фикция позволяет существенно упростить структуру фактического состава при правовом регулировании общественных отношений;
необходимость целесообразности и разумности при достижении целей в системе законодательства и правоприменения;
инициирование и недопущение определенных правовых последствий.На стадии правотворчестваюридические фикции выступают в роли приемов юридической техники. При таком понимании юридические фикции предшествуют правовым нормам и являются одним из способов их создания. Юридическая фикция в данном случае представляет собой такой прием правотворческой техники, с помощью которого существующее принимается за несуществующее и наоборот.[24] Также важно отметить, что это средство отличается исключительностью, т.е. оно применяется только в том случае, когда другие приемы неэффективны в достижении поставленной законодательной цели. Например, невозможно было бы урегулировать деятельность людей, имеющих общее обособленное имущество, выступающих в отношениях с другими людьми в качестве единого коллективного субъекта, без юридической конструкции «юридическое лицо». Так, по мнению некоторых исследователей, юридическое лицо как конструкция, представляет собой пример юридической фикции.Таким образом, на стадии правотворчества о фик
e-koncept.ru
Юридическая фикция — это что такое?
Юридические фикции закреплены законодательно в РФ. Однако сам термин еще не имеет четкого определения. Это один из основных приемов в правовой практике, известный еще с античных времен. Он имеет свои особенности, достоинства и недостатки, которые нужно учитывать при применении.
Что представляет собой юридическая фикция
Юридическая фикция – это особая техника, употребляемая при создании и применении законов и правовых норм. По сути, это иллюзорный факт, но который при этом имеет огромное значение в юридической практике. Он нужен для адекватного восприятия и толкования законов и правовых норм как новых, так и старых. Преимущественно фикции используют в гражданском и гражданско-процессуальном законодательстве, но область их применения не ограниченна этими сферами правовой деятельности.
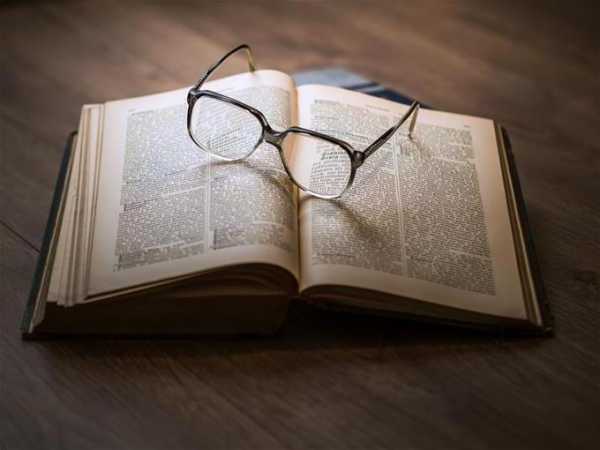
Применение юридических фикций в правовой системе имеет как положительные, так и отрицательные моменты. Не зря многие отечественные и зарубежные правоведы-ученые негативно отзывались об этом инструменте.
Еще в античные времена фикции подвергались критике. Так, видный философ древности Аристотель считал, что они вводят граждан в заблуждение. Такое отношение было связано с тем, что юридические фикции использовали софисты, которые злоупотребляли этим приемом. В результате из мощного приема для установления истины они стали способом обмана и достижения победы в судебных тяжбах нечестным путем.
Признаки фикций
Несмотря на то что официального определения для фикций не существует, во многих словарях юридических терминов им дается приблизительно одно и то же определение – вымысел, нечто не существующее, но используемое в юридической практике для правильного толкования законов и применения их на практике. Правоведы определяют фикцию по следующим признакам:
- Носит формальный характер. Выступает в качестве формального, а не фактического доказательства в юридической практике. Например, в документах указана одна дата, а событие происходило в другое время. Это происходит тогда, когда нет возможности зафиксировать факт сразу. Либо факт невозможно доказать, но чтобы не были нарушены права других граждан, существование его должно быть формально определено.
- Бездоказательна. Так как это несуществующий факт, то его нельзя ни доказать, ни опровергнуть. Фикция существует только в сознании людей или на бумаге. Часто она подкреплена разумными аргументами и объяснениями и не противоречит логике, но она всегда остается вымыслом.
- По определению, ложна. Она не имеет материального подтверждения в реальном мире. Но с ее помощью достигается главная цель – адекватное восприятие нормы и соответствия закона действительному положению дел.
- Исключительность. В юридической деятельности ее невозможно полностью заменить каким-либо другим правовым инструментом. Так как область права – это область абстрактных понятий. И хотя правовых фикций стало значительно меньше, исключить их полностью из одноименной системы невозможно.
Фикция действует до тех пор, пока в обществе существует согласие на ее определенное толкование. То есть пока она отвечает правовым традициям и запросам общества и не противоречит принятым в нем нормам (моральным, гражданским), ее использование считается нормальным и нужным. Но если она не проясняет, а запутывает, то ее убирают или заменяют.

Классификация фикций
В юридической деятельности фикции классифицируют по следующим параметрам:
- по областям права, в которых они применяются — законам, актам, статьям Конституции;
- по способу выражения: в отрицающих или подтверждающих что-либо выражениях, суждениях, аргументах;
- по характеру правовых ситуаций — фиктивным фактам или фиктивным состояниям.
Такая классификация дается в учебнике О. А. Курсовой. И хотя в остальных пособиях классификация фикций может быть выражена в других юридических терминах, по сути, они мало чем отличаются от вышеуказанной классификации, но могут быть разбиты на большее количество пунктов.

История возникновения правовых фикций и их развития
Впервые понятие «юридическая фикция» появилось во времена Древнего Рима. О том, как их использовать и в каких случаях, было прописано в римском праве. Однако еще до того, как они получили свое определение, их использовали в судопроизводстве в Древней Греции.
Причина, по которой эллины не придали этому инструменту юридической формы, заключается в том, что по греческим законам истец не имел права нанять себе защитника. Он должен был сам защищать себя в суде. Поэтому юриспруденция у них не получила развития, в отличие от Древнего Рима, где был разработана целая система права.
Особенности древнеримской судебной системы
В Риме в судебном процессе подсудимый или истец мог нанять защитника, который бы выступал вместо него и защищал его интересы. Именно такое разделение ролей послужило переоценке значения юридических фикций и признания важности их применения в судебной практике. Появились профессиональные юристы, которые специализировались на изучении права и обычаев и использовали их в своей деятельности.
В дальнейшем юридические фикции как прием юридической техникипродолжали использовать в Средние века и позднее, вплоть до конца XIX века, когда ученые-правоведы начали разрабатывать новые приемы и техники. Появилась возможность получать и обрабатывать больше фактического материала. Поэтому потребность в широком применении фикций отпала. Сегодня их используют в некоторых областях гражданского права и во время судебного процесса.

Какую роль играет в юридическом процессе
Юридический процесс – это цепь последовательных шагов от подачи заявления (возбуждения дела) до вынесения приговора в суде. Он включает в себя, в качестве основных элементов, процессуальные нормы, документы, соответствующие правовые процедуры.
В процессе сбора и обработки информации, а также в процессе судебного разбирательства применяются различные юридические приемы и техники, в том числе презумпции и правовые фикции. Причем в ходе судебного процесса используют их все участники. Как адвокат, так и прокурор прибегают к юридическим фикциям, чтобы сделать имеющиеся факты понятными для присяжных и судей.
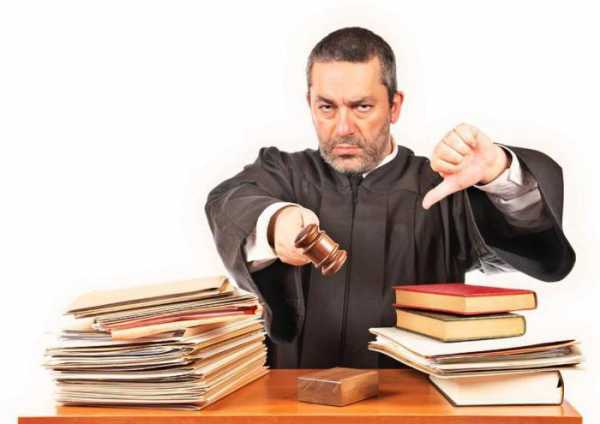
Использование в правотворческой деятельности
В правотворческой деятельности юридическая фикция – это один из основных инструментов. Законодатель на этапе разработки закона не может предусмотреть, как этот закон будет работать. Каким образом его будут толковать и использовать. Особенно это касается таких явлений в жизни общества, которые случаются нечасто или могут случиться в неопределенном будущем.
Примером юридической фикции в действующем законодательстве может служить статья 45 ГК РФ. В ней указано, в каких случаях гражданина можно считать умершим. Однако положения в статье основываются не на реальных фактах. Ведь если человек отсутствовал по месту жительства в течение 5 лет и более, не предоставляя сведений о месте своего пребывания, это не подтверждает однозначно, что он погиб. Законодатель исходил из того, что такая ситуация возможна, а значит, она должна быть отрегулирована, чтобы не нарушались права других граждан.
Точно так же как 46 статья ГК РФ указывает на то, что гражданин, признанный умершим, но в реальности живой, может восстановить свое имя и права, в том числе вернуть имущество, если за это время его наследники успели вступить в наследство и распорядится им по своему усмотрению.
Использование в правоприменительной деятельности
Почти вся правоприменительная практика законов, правил, обычаев основана на применении юридических фикций. Это положение вещей становится понятным при изучении истории права.
Впервые юридические фикции появились в Древней Греции, но широкое применение они получили в римском праве, из которого впоследствии образовалось европейское право, в том числе и в России.

Наибольшее распространение получили юридические фикции в гражданском праве. Люди используют их, даже не замечая этого. Часто это происходит при оформлении документов постфактум, когда событие произошло значительно раньше, чем это указывается в документе. Например, при получении свидетельства о смерти.
По вполне понятным причинам оно не может быть выдано сразу, так как для подготовки и выдачи документа нужно некоторое время. Поэтому указанная в документе дата является фикцией. Та же ситуация наблюдается также при усыновлении, при оформлении некоторых документов, при признании человека без вести пропавшим.
Разница между презумпцией и фикцией
Презумпция отличается от фикции тем, что последняя ложна по определению, в то время как презумпция – это всего лишь предположение существования факта. Ее положения считаются истинными до тех пор, пока не будет доказано обратное. Например, презумпция невиновности – это предположение того, что пока вина гражданина не доказана в суде, он считается невиновным.
Презумпция не обладает признаками исключительности и бездоказательности. То есть если человек виновен в каком-либо преступлении, то до тех пор, пока это не будет доказано, он считается невиновным. В остальном же, презумпция, как и юридическая фикция – это правовые техники, имеющие абстрактную форму. Они помогают определить истину быстрее и с меньшими затратами сил.

Разница между аксиомой и фикцией
Еще одним приемом в юридической деятельности является правовая аксиома. Аксиома так же, как и фикция, бездоказательна, но основывается она не только на суждениях, но и на фактах. Но в отличие от фикции она не имеет признаков ложности.
Аксиома основана на реальных фактах, и они подтверждены многовековой практикой, либо выводом, сделанном, исходя из этих фактов. Например, аксиома «никто не может быть судьей в своем деле». Смысл этого утверждения в том, что никто не будет действовать в чужих интересах, в ущерб собственных, в том числе судья. Если провести эксперимент, то все участники процесса будут вести себя в соответствии с этой аксиомой. Поэтому судья не имеет права судить в том деле, в котором он или члены его семьи будут иметь интерес. Это закреплено в законе.
Значение правовой фикции в современном законодательстве
В современной юридической практике правовые фикции выполняют следующие функции:
- Охрана прав граждан. Восполняя пробелы в законодательстве, они тем самым помогают не только упростить процедуру признания того или иного факта, но и лучше его понять, а значит, использовать.
- Помогают защитить права гражданина при возникновении неординарных событий.
- Устраняют несогласованность, возникающую во время правового процесса.
- Создают устойчивое и понятное правовое регулирование.
Изменения в жизни общества происходят постоянно. Многие законы становятся устаревшими, а законодатель не успевает их вовремя заменить. Да и частые изменения в законах чаще всего создают еще больший хаос. Юридическая фикция – это прием, который используют законодатели, чтобы придавать законам понятный и современный вид, допуская определенное толкование этих законов с целью установить истину.
Заключение
Юридическая фикцияиспользуется профессиональными юристами в судопроизводстве и законодательстве с древнейших времен и до наших дней. Роль правовых фикций в юридическом процессе велика. Они помогают лучше понять законы, экономят правовые средства, дают возможность подробнее изучить и оценить имеющиеся в руках судьи, прокурора, адвоката фактические материалы.
К сожалению, не все участники правового процесса используют юридические фикции добросовестно. Злоупотребляя этим приемом в юридической деятельности, некоторые участники процесса могут запутать дело, ввести в заблуждение судью и присяжных. Поэтому ученые-правоведы неоднозначно относятся к описываемой технике. Они критикуют неоправданное применение этого приема и ищут способы заменить его другими.
fb.ru
Фикции — это… Что такое Фикции?
Фикции — представления и понятия, с которыми мы оперируем таким образом, как если бы им соответствовало в действительности то, чего на самом деле не существует, приписываем, например, предмету качество, которого он в действительности не имеет, ставим лицо … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона
Теория фикции юридического лица — (англ. theory of fiction of juridical person) связана с именем германского юриста, главы исторической школы права, возникшей в XIX в., К. Ф. Савиньи. Он утверждал, что человек, и только человек, является действительным субъектом права. Позитивное … Энциклопедия права
Теория фикции юридического лица — (англ. theory of fiction of juridical person) связана с именем германского юриста, главы исторической школы права, возникшей в XIX в., К. Ф. Савиньи. Он утверждал, что человек, и только человек, является действительным субъектом права. Позитивное … Большой юридический словарь
Юридические фикции — правовой прием, впервые примененный в римском праве состоит в том, что известный несуществующий факт признается существующим, либо наоборот. Так, например, презумпция знания закона по своей сути является фикцией. Теория государства и права Право… … Википедия
Правовые фикции — несуществующие факты, признанные законодательством существующими и имеющими в силу этого юридические последствия. Например, в соответствии с ч. 2 ст. 45 ГК РФ «военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести в связи с военными действиями,… … Элементарные начала общей теории права
фифект фикции — каша во рту, говорить, глотать звуки, шамкать Словарь русских синонимов. фифект фикции прил., кол во синонимов: 4 • глотавший звуки (5) • … Словарь синонимов
Презумпции, преюдиции, фикции как разновидности юридических фактов — специфические юридические обстоятельства, прямо не предусмотренные гипотезами правовых норм, но с которыми закон связывает наступление юридических последствий. Большинство правовых отношений возникают из оснований, предусмотренных… … Элементарные начала общей теории права
фифект фикции — дефект дикции. Имитация дефекта речи; распространилось под влиянием популярного телефильма «По семейным обстоятельствам» … Словарь русского арго
ФАЙХИНГЕР — (Vaihinger) Ханс (1852 1933) нем. философ и кантовед. Проф. ун тов Страсбурга и Халле (1884 1906). Испытал на себе влияние И. Канта, А. Шопенгауэра, Ф.А. Ланге. В 1897 основал жур. «Kant Studien», а в 1904 Кантовское общество (Kant Gesellschaft) … Философская энциклопедия
Фикция правовая — [от лат. fictio выдумка, вымысел] в теории права особый прием нормотворчества, суть которого заключается в том, что определенные юридические последствия закон связывает с заведомо несуществующими фактами и смысл фикции выражается вводными словами … Правоведение: глоссарий
dic.academic.ru
Что такое юридическая фикция?Дефиницию я знаю.Можно на примере объяснить?
Вот пример из ГК РФ Статья 1114. Время открытия наследства 2. Граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга. При этом к наследованию призываются наследники каждого из них. Это классичекий вариант правовой фикции — в действительности два человека умерли разное время (скажем в шесть утра и в восемь вечера) , но в целях применения процитированно нормы права они читаютсяумершими одновременно. Еще одним примером правовой фикции традиционно считается «юридическое лицо», как субъект гражаданского права.
Юридическая фикция Юридическая фикция Юридические фикции — правовой прием, впервые примененный в римском праве состоит в том, что известный несуществующий факт признается существующим, либо наоборот. Так, например, презумпция знания закона по своей сути является фикцией. взято с юр. словаря из интернета. впрчем и валерий тоже прав.
В отечественном праве юридические фикции закреплены нормами права нескольких отраслей права. Так, гражданское право в определенных случаях предусматривает возможность признания гражданина умершим или безвестно отсутствующим. В соответствии с нормами уголовного права гражданин считается несудимым, если судимость снята либо погашена. Гражданско-процессуальное право предусматривает возможность доставления судебной повестки по последнему адресу, известному суду в случае перемены места жительства и несообщения об этом в суд.
touch.otvet.mail.ru
